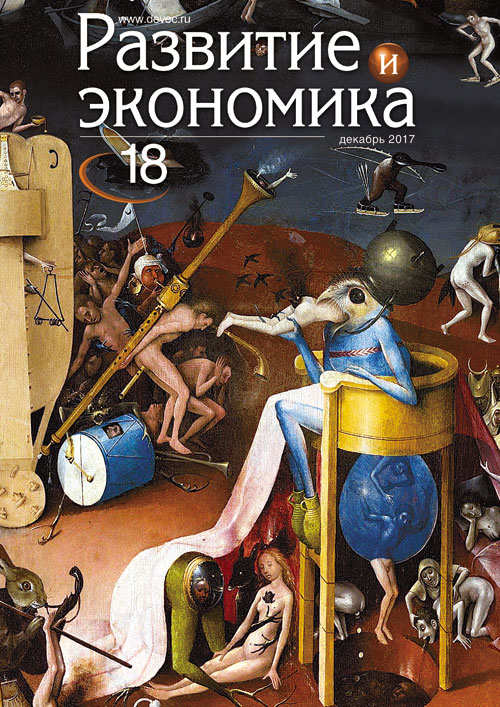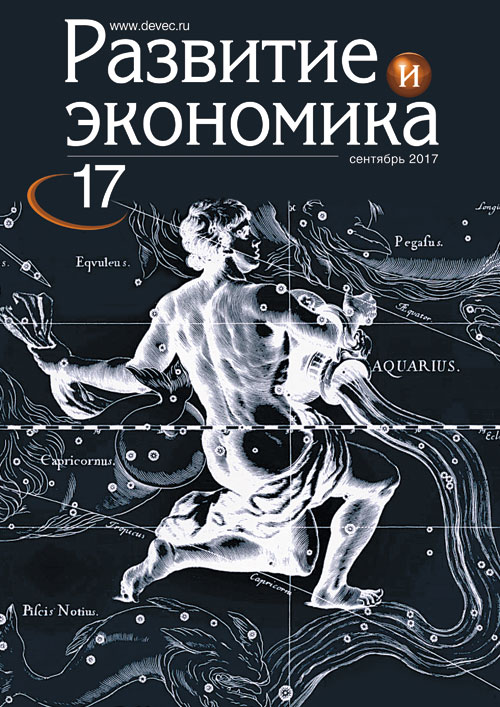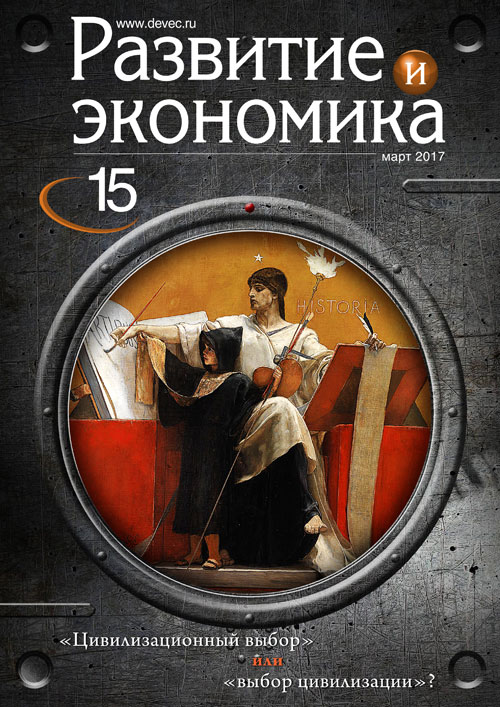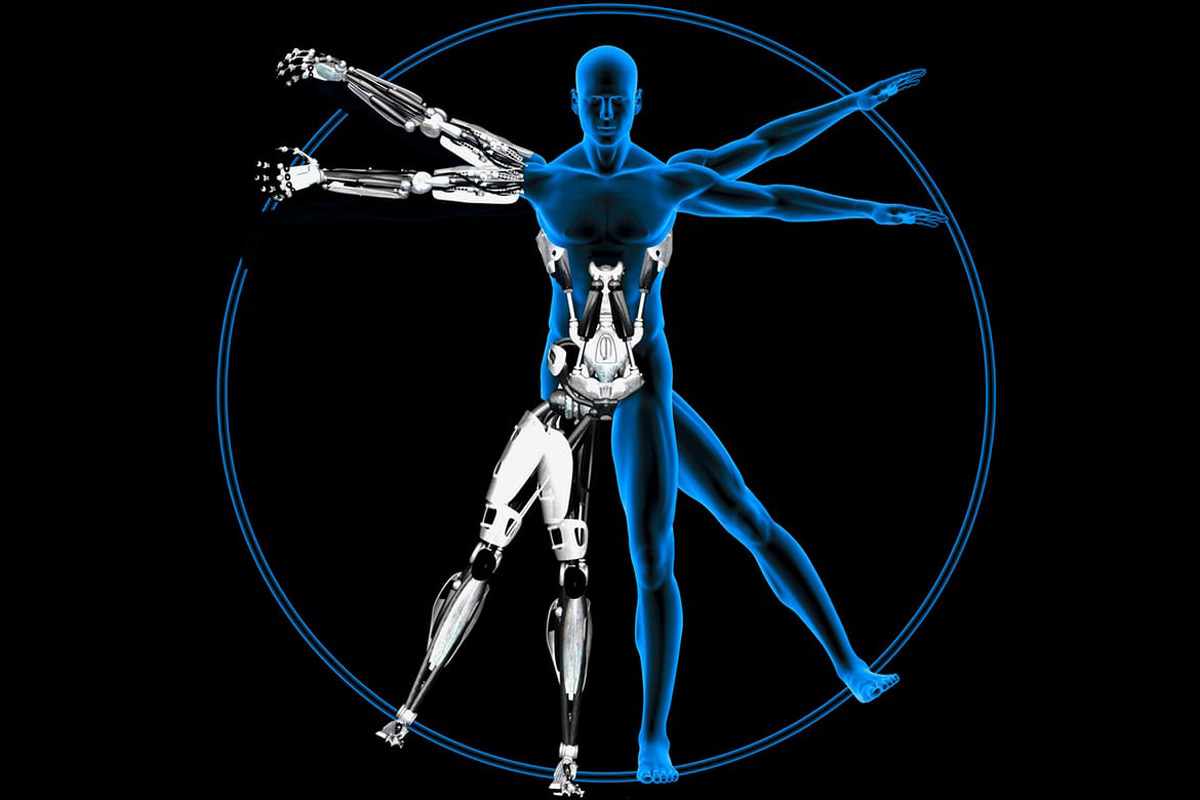Мобилизация: антропологическое измерение
Виктор Немчинов
Источник: альманах «Развитие и экономика», №13, июль 2015, стр. 144
Виктор Михайлович Немчинов – кандидат экономических наук, директор Музея исторического сознания Института востоковедения РАН

В настоящее время, когда еще не опостылели ленца и чувство толстого нефтегазового кошелька, позволявшего купить всё, что самим делать несподручно, из-за санкций и неприятных осложнений в отношениях с Западом в публичном дискурсе возникает вопрос о мобилизации. Задумываясь о векторе мобилизационного развития в разных его возможных проявлениях, представляется небесполезным поразмышлять о том, что такое вообще жизнь в режиме экстраординарных вызовов, каковы ее параметры, ритмика, логика развития и, главное, какой она возможно станет после окончания нынешнего турбулентного этапа. Проблема мобилизации трактуется часто по-разному и неодинаково не только властью и обществом, но и внутри самой власти и самого общества, поэтому начать разговор здесь стоит с некоего общего мнения, которое у нас почему-то не принято подвергать сомнению. В соответствии с этим мнением мобилизация всегда является феноменом общественным, но никак не индивидуальным. Во всяком случае, считается, что отдельному человеку самому, без какого-то резкого внешнего воздействия, направленного на него именно как на объект, как на элемент некой общности, крайне трудно заставить себя отмобилизоваться. То есть отказаться от привычного образа жизни, наложить на себя те или иные ограничения и вообще поднять градус осмысленного подвижничества при совершении собственных поступков.
Думается, что приведенный взгляд на мобилизацию как на явление исключительно социального порядка – возможный, но в принципе неправильный. И дело тут даже не в том, что мобилизовать извне, путем тех или иных воздействий со стороны то или иное сообщество гораздо проще, чем отдельному человеку, незнакомому с чувствами собственного достоинства и самоограничения, проделать то же самое с самим собой. В конце концов, история знает массу примеров подобной внутренней мобилизации – и не только из житий святых. Возьмем, например, описанный Даниилом Граниным в повести «Эта странная жизнь» опыт такой самомобилизации советского ученого Александра Любищева. Жизнь Любищева – пример вовсе не трудоголизма, а именно самомобилизации. Разница между одним и другим очевидна. Трудоголик живет иной, имеющей очевидную ценность жизнью лишь в работе, и хорошо, что эта работа отнимает всё время. Когда работы нет, он тем не менее постарается чем-то себя загрузить под завязку. В каких-то глубинах его сознания всегда остается представление о жизни в работе как о приоритете, выделяющем его из всех остальных, – неважно, представление это романтически-мечтательное или высокомерно-презрительное. У самомобилизованной личности – что, кстати, совершенно четко видно по повести Гранина – такого представления либо вообще нет, либо оно остается ничтожно малой величиной, которой следует пренебречь. Можно даже сказать, что в определенном смысле вопрос о собственно мобилизации как системе мер по понуждению себя к чему-то перед такими личностями не стоит вовсе. Просто никакого особого насилия над собой тут и не требуется: то, что для других выглядит подвигами самоотречения, для этих людей является естественным и повседневным способом дисциплинированного существования. Это их способ сражаться с любыми возникающими проблемами, превращая их в новые возможности для саморазвития. Поэтому не следует забывать и еще одну принципиальную особенность самомобилизации – состояние размеренности и предсказуемости. Состояние особенно необходимое в периоды жесткого кризиса, несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства, авралы и нервотрепки. При правильно выстроенных приоритетах человек в кризис должен непременно сохранить в нормальном состоянии себя, свою семью и друзей. Например, тот же Любищев, чтобы быть полностью отмобилизованным, никогда не брал никаких срочных незапланированных работ, которые нарушили бы заведенный и неукоснительно соблюдаемый ход его жизни. В советское время с его непрекращающимися кампанейщинами, пожалуй, именно эту принципиальную установку было сложнее всего соблюдать. Точно такое же «искушение» – отвлекаться от главного, взять еще одну близлежащую высоту, как бы походя решить незапланированную, но оказавшуюся чрезвычайно соблазнительной и доступной для реализации в данный конкретный момент задачу – возникает и при коллективной мобилизации. И если поддаваться подобным «искушениям», то можно попросту надорваться и не выполнить то, ради чего вообще затевалась мобилизация. Примеров тому – масса, в том числе из той же советской эпохи. Мобилизация – это не слоеный, на скорую руку замешенный как попало пирог, а предельная систематизация и дотошное упорядочивание затрачиваемых сил и ресурсов ради достижения главного при полном игнорировании любых отвлекающих, второстепенных или привходящих задач и мотиваций.
И все-таки, несмотря на примеры отдельных индивидуальных самомобилизаций, данный феномен, разумеется, имеет значимую социальную природу. Это очевидно хотя бы вследствие того, что он становится востребованным, как правило, в кризисные моменты в качестве искомой модели нового социального поведения, благодаря которому возникшие неурядицы должны быть быстро преодолены. Но не следует путать мобилизацию с форс-мажорной ситуацией, возникающей в результате тех или иных экстраординарных событий. Яркий пример форс-мажорной ситуации – это война, хотя ее по старинке держат за проявление политики иными средствами. Да, форс-мажорная ситуация предполагает предельную мобилизацию сил в качестве незаменимого инструмента управления крупными сообществами, но сама такая мобилизация оказывается в определенной степени вторичной, прикладной, ситуативной – то есть обладает всеми теми характеристиками, которые являются как раз нетипичными для особого режима функционирования на протяжении длительных отрезков времени. Именно поэтому форс-мажорная мобилизация прекращается, сворачивается фактически сразу после устранения причины, которая вызвала ее к жизни. И в подобной демобилизации оказывается заинтересованным не только общество: власть в неменьшей степени нуждается в возвращении к привычному, прежнему, нормальному способу существования, чтобы сохранить свои исключительные прерогативы. Настроиться на особый мобилизационный лад для власти так же непросто, как и для общества. И если форс-мажорная ситуация не оставляет им обоим альтернативы, вынуждает преобразиться, напрячься, то в обычной, нормальной обстановке и управляющие, и управляемые все-таки стараются минимизировать любые издержки собственного благополучного бытования. При этом главный мобилизационный и мобилизуемый ресурс – это, конечно, люди, самостоятельные, высокообразованные, внутренне мотивированные люди, а не инструменты стратегического планирования, контроля над распределением ресурсов, не винтики и т.д.
В этом смысле взгляд на советскую эпоху как на время тотального господства административно-командной мобилизационной системы нуждается если не в полном пересмотре, то, по крайней мере, в серьезном уточнении. Административно-командная система действительно умела подчинять массы единому руководству. И когда ей требовалось срочно аккумулировать энергию этих масс и направить ее в нужную точку, эффект оказывался впечатляющим. Но это взнуздывание, как при раскулачивании и сплошной коллективизации, давало результат только в условиях экстенсивной модели хозяйственного, социально-экономического и политического развития. Особенно заметных результатов удавалось достигать в ресурсно-экспроприируемых отраслях – на войне, ценой массовой растраты, а не сбережения собственного народа и его лучших представителей. Когда, может быть, и не вполне обученная, не очень подготовленная и профессиональная армия, будучи безоговорочно отмобилизованной, на ходу самоорганизовывалась, превращалась в дисциплинированную и мощную силу, способную одерживать победы над более многочисленным и во всех смыслах лучше подготовленным противником, и побеждала. В результате у власти возникали наивная иллюзия и самонадеянная уверенность в том, что приемы и опыт военной мобилизации, подразумевавшей выполнение главной, четко определенной, предельно ясной и единственно значимой для народа и власти задачи, можно с успехом использовать и в мирных условиях. Прежде всего – в народно-хозяйственной и в производственной сферах. Но вот тут-то как раз и допускалась роковая ошибка. Если исходить из приведенного выше уточнения, то тотальная военная мобилизация была мобилизацией именно форс-мажорной, то есть разовым рывком, имеющим ограниченную продолжительность и локальное, узкое по окончательной цели, конкретное употребление. Перетерпеть противника, выстоять любой ценой. Ни власть, ни общество не планировали и не могли воевать неопределенно долго – несмотря на всю воинственную советскую официозную риторику, направлявшуюся против не только внешнего, но и всегда подозревавшегося внутреннего врага, явного или мнимого. В мирное же время мобилизационные приемы должны были стать совершенно другими – рассчитанными на длительную перспективу, основанными на цикличности, учитывающей естественные социальные пульсации, избегающими неоправданных затрат и непродуманных кампаний. Но власть не стала особо утруждать себя – и после завершения войны она продолжила управлять с помощью всё тех же форс-мажорных пропагандистских и волюнтаристских приемов. И это не могло не привести к целому ряду негативных последствий. Среди них – политический инфантилизм, неоправданные социальные издержки, нерациональное использование производственных мощностей. Наконец, создание не просто неэффективной, но «самоедской» экономики, имевшей ограниченный срок существования, несмотря на весь тот изначальный креативный коммунитарный потенциал, который был в нее заложен и который предлагал оригинальный, хотя и не гарантированный, выход из мотивационного тупика капитализма эпохи промышленной революции.
Но возможна ли в принципе подлинно мобилизационная – без всяких форс-мажорных примесей – экономика? С одной стороны, отрицательный ответ на этот вопрос напрашивается как бы сам собой. Экономика – это крайне сложная динамичная система, в которой велика роль фактора неопределенности, непредсказуемости – что особенно подтверждают мировые кризисы последнего времени. Казалось бы, какая тут может быть мобилизация, предполагающая подчинение единой (всезнающей?) командной воле этого переменчивого мира? Но с другой стороны, всё не так однозначно. Вопрос в том, насколько грамотно, профессионально и предусмотрительно ведет себя эта самая командная воля. Действует ли она в одномерной, хорошо знакомой ей плоскости или же учитывает прежде всего те факторы, которые в настоящий момент не проявлены, но которые непременно дадут о себе знать как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе. И если отказаться от поиска легких, простых и якобы самоочевидных ответов на сложные вопросы, то вполне реально развернуть мобилизацию даже в условиях кризиса рыночной экономики. Но при этом инструменты эффективной работы с людьми должны быть, наконец, основаны на собирании народа. Прежде всего потому что без максимальной гибкости мышления, целеполагания и подходов к реализации неоднозначных задач нельзя выйти из кризисного болота. Не лозунгами и не историческими мифологемами следует вести народ. Так можно обращаться только с населением, которое годится лишь для того, чтобы его ловко распропагандировали. Главным управленческим ресурсом в кризис является доброжелательность и доверие к людям. Они на это реальное доверие всегда откликнутся сами. Не из-под палки и не в иллюзорном экстазе, а предельно трезво, реально и грамотно оценивая те, пусть крохотные, возможности, которые можно увидеть и оседлать, находясь в болоте растущих проблем. И только тогда, когда мы выберемся на твердую почву под ногами, когда острота кризиса окажется позади, когда предвидение и короткий прогноз выполнят свою удерживающую на плаву, выравнивающую ситуацию роль, можно будет в «холодном состоянии» экономики и социума вернуться к проверенному временем инструменту – к индикативному средне- и долгосрочному планированию.