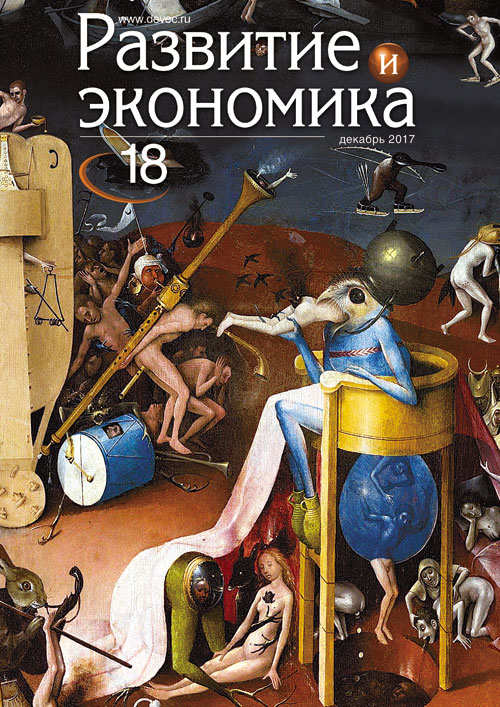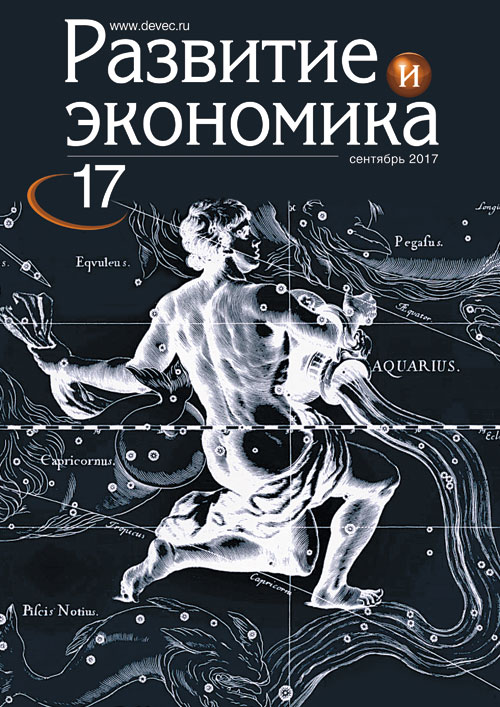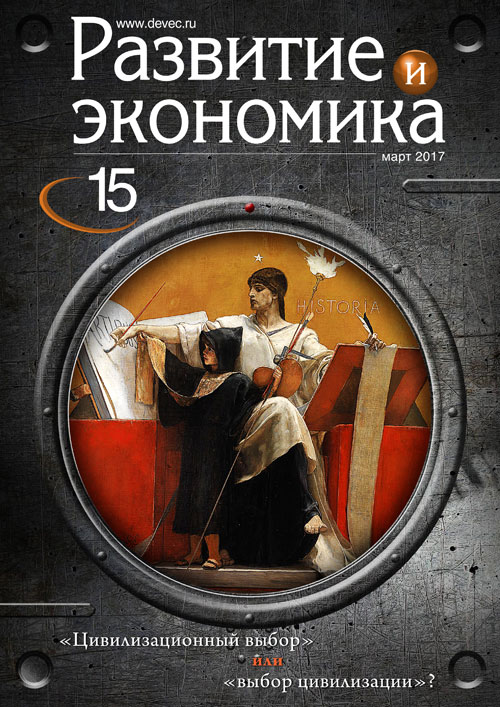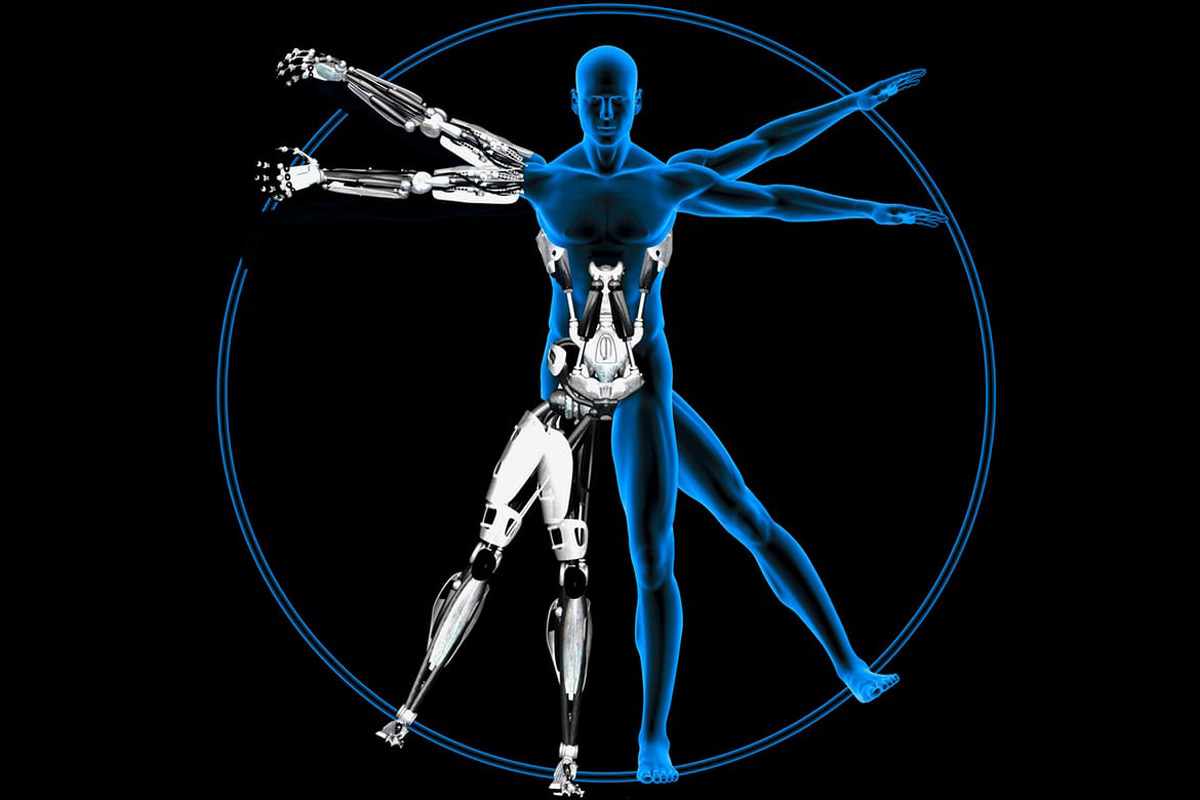Виталий Третьяков: «Советский опыт, советский строй надо воспринимать как величайшие цивилизационные ценности»
Интервью декана Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова Виталия Товиевича Третьякова первому заместителю главного редактора альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
Источник: альманах «Развитие и экономика», №14, сентябрь 2015, стр. 6

– Виталий Товиевич, в настоящее время вы являетесь одним из немногих – я бы даже сказал, что совсем немногих, буквально считанных, – известных и, как сейчас говорят, медийно узнаваемых мыслителей, которые чрезвычайно положительно, без всяких оговорок типа «с одной стороны – но с другой стороны» относятся к советскому прошлому нашей страны. Вы много раз выступали с этой позиции в печатных и электронных СМИ, в своем блоге, но, как правило, в связи с конкретными темами – Великая Победа, Сталин, Советский Союз в системе международных отношений и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы мы во время нашей беседы попробовали взглянуть на советское прошлое, советский опыт как на некий целостный феномен, не углубляясь при этом в какие-то отдельные его аспекты. Я знаю, что в уже изданных частях ваших воспоминаний вы в той или иной степени несколько раз размышляли об эпохе, в которую вы родились и выросли, именно как о некоем цельном периоде, нуждающемся в комплексном, а не дискретном рассмотрении. Так что замысел сегодняшнего интервью вполне соответствует этому вашему пожеланию.
– Говоря о советском опыте, я исхожу из нескольких, как мне кажется, фундаментальных, то есть объективных – но таких объективных, которые свою объективность сохраняют на протяжении не трех лет, а, как минимум, десятилетий, а то и столетий, – исторических законов. Таких законов, которые я одновременно воспринимаю и как ценности – во всяком случае, как ценности для себя самого. Потому что я убежден в том, что если некий исторический закон подтверждается на протяжении длительного времени – как я сказал, в течение десятилетий или тем более веков, – то значит, жизнь устроена именно в соответствии с этим законом, значит, он абсолютно точный и правильный. А следовательно, мы – как имеющие непосредственное отношение к жизни, организованной по такому закону, – не можем не воспринимать его как ценность. Вот почему я сказал, что для меня эти базовые исторические законы являются одновременно и законами как таковыми – причем непреложными законами, – и ценностями. Да, тебе в твоей жизни что-то может не нравиться, ты можешь чему-то сопротивляться – но только не этим фундаментальным законам, потому что в противном случае ты идешь против самой жизни – и своей собственной, и своего народа, и своей страны. И если я воспринимаю как абсолютные ценности свой народ, свою страну, а также народы, проживающие за пределами официальных государственных границ современной России, на пространстве, которое сейчас называют Русским миром, а я бы скорее назвал Большой Россией, и при этом не испытываю никакого желания переехать отсюда в Америку, Европу или куда-либо еще, то я тем более просто обязан беречь эти ценности как нечто самое сокровенное, как часть самого себя. Поскольку если этой части, этого основания моей жизни не будет, то и меня самого тоже не будет. Напрашивающаяся аналогия тут – с литературой. Если бы я знал, скажем, французский язык так же, как русский, то есть мог бы чувствовать то, что чувствует носитель языка, мог бы думать на этом языке, то тогда для меня, наверное, русская литература и французская литература были бы одинаково равновеликими… Нет, они и так для меня равновелики. Я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, существуют пять великих европейских литератур – французская, немецкая, итальянская, английская с американским ответвлением и, наконец, русская, которая позже других возникла – если не воспринимать американскую отдельно от английской. Ну, может быть, шестая великая литература – испанская. Вот и всё. Попробуй ворваться в этот круг избранных – не получится. Именно целой литературой, национальной литературной традицией ворваться – я не говорю про отдельных писателей, принадлежащих по своему происхождению к другим народам. По своей мощи эти литературы для меня равновелики. Но только в русской литературе я чувствую себя как дома. Для меня Григорий Печорин, Андрей Болконский, Наташа Ростова, Мастер и Маргарита, Макар Нагульнов, Григорий Мелехов, шукшинские герои – это всё реальные люди из моей жизни, которых я хорошо знаю, понимаю и чувствую, с которыми могу общаться. Такое ощущение, что я со всеми ними за руку здоровался. И вот точно то же самое представляет для меня моя страна, под которой я понимаю – подчеркиваю это еще раз – не только Российскую Федерацию, но и Большую Россию.
– Виталий Товиевич, вы, видимо, очень основательно, с длинным вступлением подходите к разговору о советском опыте. Извините, пожалуйста, что я вас прерываю, но я боюсь, что мы можем отклониться слишком далеко в сторону от главной темы интервью…
– Не беспокойтесь, я прекрасно помню эту главную тему и просто, как вы верно заметили, подхожу к ней издалека… Так вот, в эпохи революционных потрясений и сломов – а последней такой эпохой на нашей памяти было время конца 80-х – начала 90-х – обычно кажется, что всё окружающее настолько плохо, что ничего кроме полного или почти полного уничтожения не заслуживает. А если ты человек пишущий и думающий, то для тебя все эти революционные потрясения являются еще и интеллектуальной ценностью. Да потом революция захватывает не только интеллектуалов, но и вообще всё общество в целом. Люди впадают в романтический настрой: вот сейчас наступит время нового мира, который будет во всех отношениях лучше мира старого, прежнего. И если брать нашу последнюю революцию, произошедшую четверть века назад, то тогда таким чаемым, желанным новым миром представлялась демократия на западный манер. Подобные наплывы революционно-романтических мечтаний – это не что иное, как периоды умственных помутнений, когда сознание становится каким-то однобоким, дефектным. И когда революционный угар проходит, наступает отрезвление и сознание восстанавливает свою полноту, то оказывается, что новый мир, пришедший на смену старому миру, в значительной степени не только не соответствует тем идеалам и тем лозунгам, которые были начертаны на революционных знаменах, но и часто не вызывает даже житейского, бытийного, повседневного удовлетворения. И такое протрезвление действительно очень напоминает состояние похмелья, когда подчас даже не понимаешь и элементарно не помнишь – как, что и главное зачем произошло. Причем это ощущение возникает даже у тех, кто обладает определенными способностями, которые – как может показаться – более заметны, нежели у других. Некоторую растерянность испытывают порой и те, кому удается вписаться в новые реалии, у кого всё более или менее складывается, кто себя нашел – или вот-вот найдет. Просто все эти люди, прежде ратовавшие за слом старого мира или даже сами его активно уничтожавшие, вдруг начинают обнаруживать вокруг себя трущобы, нищих в огромном количестве – которых раньше не было, разные финансовые клоаки. Можно, конечно, попытаться от всего этого отгородиться большими деньгами – как высоким забором, но и в этом случае рано или поздно, но непременно приходит ощущение, что ты находишься в тюрьме – пусть благоустроенной и комфортной, но вместе с тем в самой настоящей тюрьме, из которой не так-то просто выйти. Но вместе с тем, начиная понимать, что всё происходит далеко не так, как предполагалось, и новый мир на самом деле не настолько радужный, каким его видели в момент революционного натиска на старый мир и в ходе активной фазы уничтожения этого старого мира, люди боятся признаться даже самим себе в том, что совершили фатальную ошибку, и продолжают заниматься тем, что Ленин метко называл «политической трескотней», то есть оправдывать разрастающийся разрыв между революционными лозунгами и постреволюционной действительностью, покрывать многие собственные неблаговидные поступки, ссылаясь на, так сказать, «революционную необходимость» или «революционную целесообразность», закрывать глаза на то, что демократия – это отнюдь не самое справедливое государственное устройство и даже не волеизъявление большинства, а всего-навсего отражение некоего ситуативного консенсуса интересов сильных мира сего. И с определенного момента я стал отчетливо понимать, что все эти специфические особенности постреволюционного поведения один к одному проявляются в России 90-х. Чем больше назревало проблем и чем серьезнее они оказывались, тем исступленнее становились попытки вместо конструктивной работы заниматься охаиванием советского прошлого: дескать, тогда было еще хуже. И чем больше люди, особенно из известных – а в силу жизненных обстоятельств многих из известных я знаю лично, – начинали говорить, как в Советском Союзе всё было плохо, тем меньше я им верил. Потому что помнил эту советскую жизнь, адекватно сравнивал ее с жизнью постсоветской и ни на секунду не забывал, как эти новоявленные критики вели себя тогда, что говорили и писали – и что за это получали, и мне становилось понятно, чего стоят их теперешние анафемы «проклятому советскому режиму», как они его называли. Со временем такая «политическая трескотня» не то чтобы уменьшилась, но стала чуть менее оголтелой, хотя ее спекулятивность и абсурдность при этом ничуть не приутихли. Например, с какого-то времени повадились говорить, что России, Российскому государству, десять, пятнадцать, двадцать и так далее лет. Ну, сейчас – двадцать четыре года. То есть отталкиваются от 91-го года, как будто до того вообще ничего не было – никакой страны и никакого народа. Для меня же и для многих других абсолютно очевидно, что подобный взгляд не выдерживает никакой критики. Можно отсчитывать историю России с прихода Рюрика в 862-м, можно от крещения Руси при Владимире, можно – если в качестве критерия датировки брать дальнейший непрерывный суверенитет – с 1480-го, с падения ордынского ига. Но в любом случае – не с 91-го года! Советский Союз – то же самое государство, что и Российская империя, – страна стран. Эта страна стран на протяжении столетий была империей, оформившейся в результате своей экспансии на евразийском пространстве – а значит, точно так же, на тех же самых основаниях, что и другие европейские монархии. И после того как Россия перестала быть монархией, сильная и авторитарная власть осталась ее системообразующим началом. Очевидна преемственность и в идеологиях: нельзя отрицать того явного факта, что в коммунистическом мировоззрении много общего с православной и вообще с христианской этикой. Не в Советском Союзе Иисуса Христа назвали первым коммунистом, а намного раньше Октябрьской революции. Национальный архетип русского православного человека остался прежним – что при большевиках, что сейчас. И когда Россию пытаются реформировать на основе чуждых ее природе моделей, то всё идет наперекосяк не столько из-за злой воли тех, кто это затевает, хотя и она тоже вносит свою лепту, сколько по причине противоестественности таких моделей самой природе России, ее историческому естеству. Эти горе-реформаторы не понимают или не хотят понимать, что гнаться за какими-то передовыми образцами всего подряд и насаждать их в своей стране – в корне неправильно, что история – это не олимпийский вид спорта: кто быстрее добежит. Куда добежит-то? До собственного финиша? До конца своей цивилизации? Так еще надо подумать, а стоит ли торопиться, надо ли гнаться за народами, считающимися передовыми и прогрессивными, если эти народы сами себе ударными темпами роют могилы? Может, лучше не торопиться и спокойно со стороны смотреть, как Запад мчится к собственному концу, а самим стараться растянуть свою жизнь на как можно более длительный исторический срок? Несмотря на то что сейчас слово «скрепы» вызывает у кого-то истерический смех, у кого-то – саркастический смех, у кого-то – просто лютую ненависть, то, что это слово обозначает – а именно, неизменные, трансисторические и трансвременные основы культуры, – действительно, на самом деле существует. И среди этих скреп, безусловно, есть и православие – как основа ментальности русского сообщества, Русского мира, соответствующие политические организмы которых постоянно воспроизводятся в нашей стране и всякий раз несут в себе больше авторитаризма, чем демократизма и больше иерархичности, чем начал самоорганизации – иначе ведь на этом гигантском пространстве и не получится. И для меня самоценен каждый этап истории нашей страны, нашего общества. Я могу дать объективное историческое обоснование действиям людей – независимо от того, оценивают ли их сегодня, в настоящий момент позитивно или негативно. Все эти кровавые, катастрофические коллизии – разломы, войны, революции и сопутствующие им смертоубийства – являются объективно неизбежными. Констатация неизбежности не оправдывает их – но объясняет. Нет в мире идеальной страны, которая долгое время существовала бы, не переживая таких коллизий. А если к тому же принять во внимание масштаб России, то еще неизвестно, кому в нашем мире нужно каяться за совершенные преступления, за кем их числится больше и у кого они изощреннее и кровавее. Возьмем наших «мастеров» в кавычках, которые в 91-м году без всяких репрессий и ГУЛАГов обеспечили, по их словам, «безболезненный» и «бескровный» транзит от «советского несчастья» к «демократическому рыночному счастью». Но «бескровность» 91-го – это иллюзия, потому что при распаде Советского Союза кровь проливалась не в центре, а по окраинам. И сколько ее пролилось! Кто-нибудь и когда-нибудь подсчитывал, сколько погибло в гражданской войне в Таджикистане русских и самих таджиков? Или в Узбекистане? Или в Киргизии, которую несколько раз трясло – и уже не в 90-е, а позже? Или в Приднестровье? Или в Карабахе? А то, что происходит в Донбассе, – разве это не запоздалый отголосок гибели СССР? Да на этом фоне обвинения Сталина блекнут и теряют свой пафос. vivaprague.com Из, скажем, ста обвинений в адрес вождя девяносто пять в самую пору дезавуировать, поскольку иные постсоветские вожди пролили не меньше – если не больше – крови.