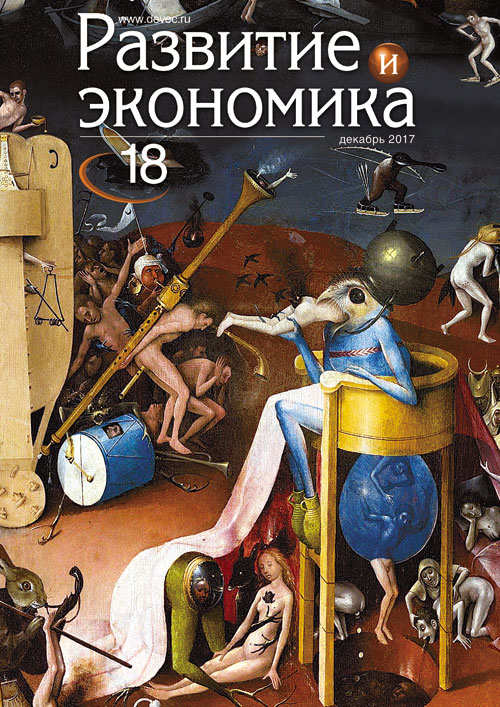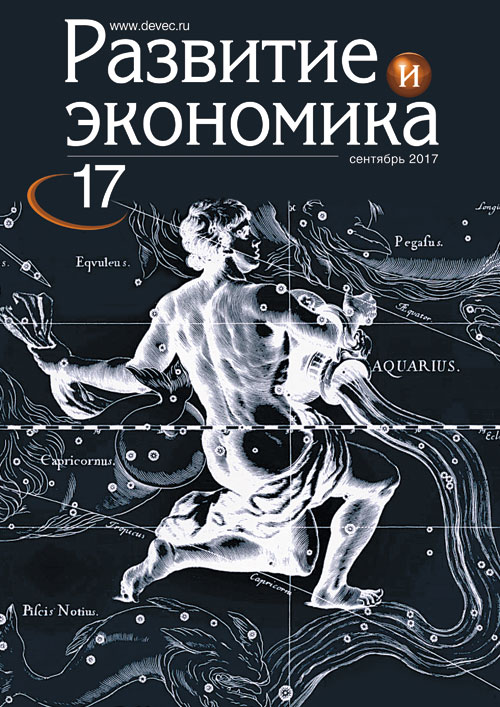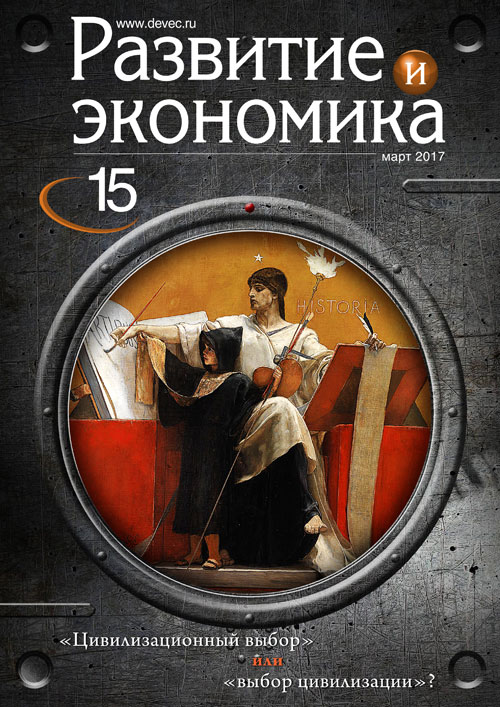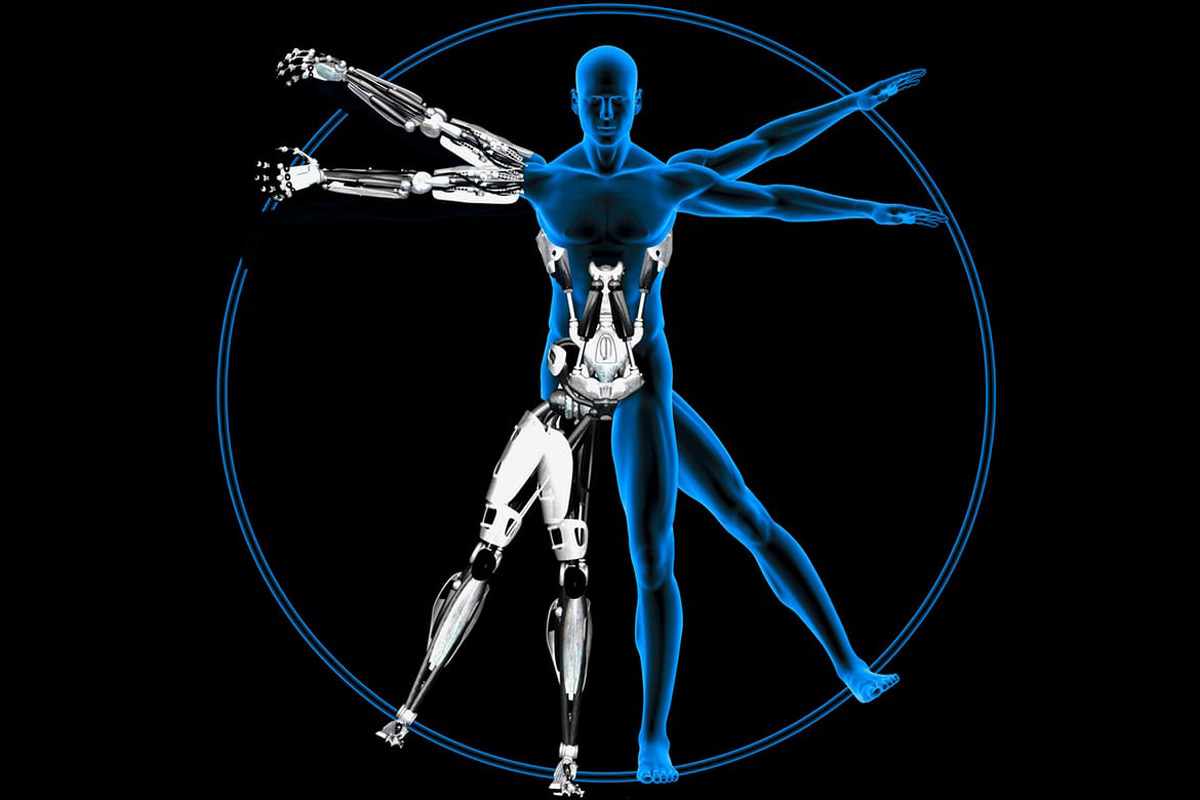Профессионалы и советская власть: взгляд из и для нашего времени
Геннадий Бордюгов
Источник: альманах «Развитие и экономика», №14, сентябрь 2015, стр. 80
Геннадий Аркадьевич Бордюгов – кандидат исторических наук, руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI)

Мы привыкли воспринимать как некую очевидность, не нуждающуюся в доказательствах, мнение о том, что главным, системообразующим внутриполитическим конфликтом советской эпохи – конфликтом, унаследованным еще от эпохи дореволюционной, – было противостояние между тоталитарной властью и гражданским обществом. Ну, если и не гражданским обществом как таковым – по причине элементарного отсутствия подобной свойственной западной политической культуре модели общественной связности, – то, во всяком случае, просто обществом: какое-никакое, но общество, не вдаваясь сейчас в его определение, у нас было.
Не ставя под сомнение сам факт указанного конфликта, следует, тем не менее, внести в приведенный взгляд два существенных уточнения. Во-первых, взаимоотношения власти и общества должны описываться гораздо более сложной моделью, нежели простым конфликтом. Да, противостояние между ними действительно имело место и оставалось на протяжении всей советской эпохи исключительно существенной характеристикой их взаимоотношений. Но одним лишь противостоянием эти взаимоотношения не исчерпывались. Имели место и сотрудничество, и взаимные апелляции друг к другу – равно как и своеобразная игра в поддавки, обоюдные заигрывания по собственным, разработанным каждой из сторон для себя сценариям – либо по режиссуре стороны противоположной. Словом, налицо ситуация, когда конфликтные в основе своей отношения только к напряженности не сводились, но были весьма неоднородными, сложноорганизованными.
Во-вторых, все-таки необходимо разобраться с тем, что собой представляла одна из сторон, а именно – общество. (Власть в этом смысле – несмотря на собственную специфичность, обусловленную тоталитарным характером режима, а значит, своей в принципе нерыночной природой, – была тем не менее гораздо более понятной и верно идентифицируемой в качестве верховного, управляющего начала.) Представляется, что в данном случае гораздо правильнее говорить не об обществе в целом, но лишь об его определенном сегменте, а именно – сообществе профессионалов, которое и вступало с властью в охарактеризованные выше сложные коммуникации и которое во многих отношениях брало на себя те самые функции, которые в развитых классических демократиях традиционно выполняло и выполняет гражданское общество.
Советская власть с самого начала и до самого конца своего существования была вынуждена не просто мириться с существованием подобного «гражданского общества», но и идти ему на определенные уступки, немыслимые применительно к обществу остальному – массовому, находившемуся за пределами этого избранного круга профессионалов, иными словами – рабсиле как таковой. Диапазон таких поблажек был весьма широким – от разного рода спецпайков (которыми, кстати, прикармливались и некоторые сегменты рабсилы) и до того, на что власть скрепя сердце шла исключительно в своих отношениях с сообществом профессионалов: последним дозволялось кроме официальной коммунистической идеологии исповедовать что-то еще. Спектр и содержательное наполнение этого «чего-то» варьировались в зависимости от эпохи и того, что именно власть рассчитывала получить от профессионалов в результате такой поблажки. Скажем, когда после войны потребовалось в кратчайшие сроки создать собственный атомный проект, власть согласилась даже на фактическое «отключение» партийной инфраструктуры от всей атомной отрасли. А в застой, когда советское руководство было уже просто неспособным на подобные радикальные шаги, подчас ограничивались тем, что как бы не замечали откровенно диссидентских настроений, ставших в то время чуть ли не господствующими в самых разных группах профессионального сообщества.
Такие идеологические привилегии для профессионалов были самыми разными, но всякий раз – вынужденными. Надо сказать, что большевики достаточно быстро осознали, что вовсе не обязательно говорить со всем населением на одном и том же языке. Это допущение осознавалось ими явственно, особых споров и разногласий в партийной верхушке не вызывало. Да, поначалу большевики упирались, им очень не хотелось разбавлять идеологическую однородность управляемого ими населения. Но они поняли, что если будут упорствовать и пытаться договариваться с профессионалами с помощью одних спецпайков, то далеко не уедут: профессионалов нельзя склонить к сотрудничеству с властью одним пряником или одним кнутом. А вот на ощущение собственной избранности, на положение, при котором им позволено быть не такими, как вся остальная рабсила, русские профессионалы – еще с царских времен ратовавшие за эгалитаризм лишь на словах, а на деле всегда предпочитавшие существовать на некотором расстоянии от народа – по расчетам советской власти должны были клюнуть. Предположение большевиков стопроцентно оправдалось: профессионалы действительно оказались чрезвычайно падкими на идеологическую привилегию, и руководству страны оставалось лишь определять длину поводка дозволенного, вокруг чего, собственно, и шли споры в партийной верхушке.
Советское руководство сыграло и на другой характерной особенности русских интеллектуалов – особенности, также уходящей своими корнями в далекое дореволюционное прошлое: на их страстной любви к хождению во власть – любви гораздо более сильной и горячей, чем к хождению в противоположном направлении – в народ. И этой своей страстью наши профессионалы разительно отличались от профессионалов западных. Те – если, например, говорить о французских интеллектуалах начиная с эпохи Второй империи, а то и раньше – всегда с большим удовольствием критиковали власть, провоцировали ее на реформы, выступали горючим материалом для революций. Но всякий раз, когда эти интеллектуалы одерживали идейные – а значит, и политические – победы над теми или иными политическими режимами от Наполеона III и до де Голля, они отказывались идти во власть и предпочитали сохранять дистанцию между собой и новым режимом, утвердившимся во многом их стараниями.
У нас же интеллектуалы традиционно вели себя прямо противоположным образом: исступленно боролись с властью, обвиняя ее подчас даже в тех грехах, которых она даже и не совершала, но когда им удавалось эту самую власть свалить, они изо всех сил устремлялись на освободившиеся вакансии – конечно, не первых лиц, но вместе с тем часто далеко и не последних, – забывая при этом, что заваривали всю эту кашу, по крайней мере декларативно, ради народа, а не для собственного нового трудоустройства. И когда такой интеллектуал дорывался до чаемого им места, он довольно быстро растрачивал не только свой революционный пыл, но часто и те профессиональные качества, из-за которых его, собственно, и взяли во власть, а также собственную самость. Аппаратная среда в этом смысле всесильна и неумолима: она способна перемолоть любого профессионала, отжать из него всё ценное, а затем либо исторгнуть его обратно – в народ, – либо оставить в качестве заурядного функционального исполнителя, заставив при этом строго соблюдать правила поведения, заведенные во власти. Во втором случае многие профессионалы ломались, не выдержав собственного умаления до роли обыкновенного чиновника – пусть и высокого уровня. Наглядные тому примеры – судьбы философов Леонида Ильичева, Абрама Деборина, Георгия Александрова. Но это – одиозные личности, а можно назвать и других спецов – настоящих профессионалов своего дела, – кооптированных во власть если и не вопреки собственному желанию, то уж, во всяком случае, не в результате каких-то предпринятых ими интриг или ухищрений. По личному распоряжению Ленина Николай Кондратьев и Александр Чаянов работали в Наркомземе и Госплане (первый – в союзном, второй – в республиканском). А Владимир Базаров в самом начале 20-х входил даже в состав президиума союзного Госплана. Работа в наркоматах и вообще на поприще управления реальной экономикой страны разительно отличалась от служения на идеологическом фронте: возможностей оставаться именно профессионалами, не мутировать в чиновников здесь было гораздо больше, так как спецов сюда и привлекали для того, чтобы они оставались именно спецами, а не становились, по словам Маяковского, «посыльными в услужении у хозяев – бумаг».
Безусловно, личная деградация профессионала в результате его романа с властью не была чем-то предопределенным и неизбежным. Многое тут зависело и от личных качеств самих спецов – твердости, последовательности, умения грамотно распорядиться открывавшимися на управленческих должностях возможностями. А возможности были действительно немалыми. Попадая в ЦК, становясь депутатом Верховного Совета или даже простым членом коллегии наркомата, профессионал оказывался причастным к распределению бюджетных и иных ресурсов. И тут перед ним возникал непростой выбор: либо с головой уходить в строительство новой страны, воспринимая то дело, которым он теперь занимался, с личной заинтересованностью, либо ограничиваться лоббированием своего прежнего дела – производства, института или иного учреждения, – к такому решению тоже можно относиться вполне с пониманием, либо стремительно деградировать, включаясь в аппаратные игры, копируя стиль поведения чиновников и заботясь лишь об удовлетворении личных потребностей.
Этот выбор ко всему прочему осложнялся еще и небывало разогретым тщеславием от попадания во власть – попадания, столь желаемого для русского интеллектуала. Перед чиновником никаких подобных искушений не возникало: он просто существовал в парадигме бюрократического этоса, ничуть не изменившегося с дореволюционных времен, тихо и спокойно работал на себя, не испытывая никакой экзальтации от близости к власти. И потому был понятен, просчитываем и органичен самой власти, нуждавшейся в нем как в идеальном исполнителе, с которым можно было особо и не цацкаться. И совсем другое дело – профессионал. https://rentgirl.co.nz Заключая с ним контракт, власть наступала себе на горло и, естественно, испытывала понятное желание при всяком удобном случае поставить своего «партнера поневоле» на место, унизить, раздавить, а то и просто уничтожить.
То есть не будет преувеличением сказать, что финал хождения профессионала во власть был для него предугадываемым и всегда одним и тем же – печальным либо, по меньшей мере, удручающим. Проигрыш становился неизбежным. Он варьировался в узком разбросе между мутацией в заурядного чиновника или теми или иными мерами, которые рано или поздно применялись к инородному и органически чуждому власти лицу.
Но трагизм положения интеллектуала в советской системе заключался в том, что невозможно было оставаться просто профессионалом, мастером своего дела, не участвовавшим в играх со властью. Если интеллектуал не лез во власть и сторонился ее, то он всё равно попадал в ее удушающие объятия – но уже опосредованно, через сложные взаимоотношения внутри самих профессиональных сообществ. Эти сообщества были расколоты, но не по научным позициям и даже не из-за конкуренции школ и группировок, стремившихся стяжать лавры проводников единственно верного мнения – и причитавшиеся таким лаврам привилегии, – а опять-таки по отношению к власти и к ее обслуживанию. Состояния подобной опосредованной зависимости могли быть самими разными. Иногда профессионалы оказывались буквально в тисках – как если бы они перешли на работу во властные структуры. Но как правило, если интеллектуал оставался в своем профессиональном сообществе, то его несвобода была все-таки несопоставимо слабее, нежели если бы он находился на службе непосредственно во власти. Но самое главное, что в таких оболочечных институциях, обслуживавших власть на том или ином направлении, профессионалы могли отчасти сами определять, в какой мере они настраиваются на частоты властных колебаний, которые напряженно улавливали в их трудовых коллективах. У кого-то получалось ничего особо для себя и не выпрашивать, чтобы не усугублять свою зависимость, но вместе с тем выполнять те заказы власти, которые в наибольшей мере отвечали профессиональным интересам. Это позволяло как бы и не слишком грешить перед научной истиной, каковой она представлялась. Характерный пример данной позиции – тезис историка Милицы Нечкиной о самодержавии как о «наименьшем зле».